
1 декабря 2015 года исполнятся 90 лет «Вестнику РХД» – старейшему журналу русского зарубежья, который впервые вышел в 1925 году как информационный бюллетень Русского христианского студенческого движения (РСХД), объединявшего с 1920-х годов русскоязычную христианскую молодежь в Европе. Ключевую роль в создании самого движения сыграла международная христианская ассоциация ИМКА (YMCA – The Young Men's Christian Association).
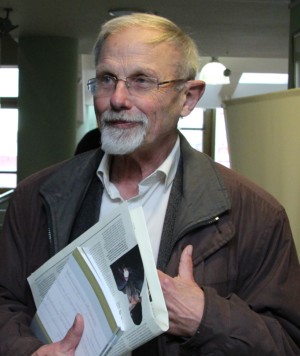
К 90-летию «Вестника» по материалам газеты «Кифа» мы приводим интервью с его бессменным редактором в течение 50 лет, Никитой Алексеевичем Струве, опубликованное в феврале 2013 года.
Какие темы сейчас важно освещать в таких изданиях, как «Вестник»? Вы говорили, что выбор основных тем у Вас часто происходит интуитивно...
Бывают вызовы, бывает текущая жизнь издания, которая должна быть разнообразной. Она может быть обращенной в прошлое – которое нам сегодня нужно (так, в двухсотом юбилейном номере «Вестника» есть самые разные классические тексты). Она может обращаться к вопросам сегодняшнего дня. Впрочем, их не так легко освещать – некоторый, я бы сказал, мировой кризис христианства наблюдается и в православной церкви, и в католической, и в протестантской. Не знаю, возможна ли теперь YMCA как организация, как порыв мировой помощи и вселенскости. Я думаю, что христианство имеет тенденцию самоограничиваться во время кризиса. Его реактивный союз с сегодняшним днем возможен, но он тоже носит в себе некоторые опасности.
Мне кажется, в таком контексте встает вопрос об отношениях между церковью и культурой, между церковью и обществом. О кризисе этих отношений.
Культура сама сейчас находится в кризисе – и тоже отчасти в мировом масштабе. Так что мы стоим пред большим количеством вопросов.
При этом журнал, насколько это возможно в такой ситуации, не должен вдаваться в пессимизм, потому что пессимизм редко бывает творческим. Как и оптимизм: любые «измы» – не творческие начала. Надо продолжать делать своё дело так, как будто слишком большого кризиса нет. Хотя мы не очень видим, куда идет Россия и куда идет Русская православная церковь. То же самое можно сказать и про Францию, и про православие в Америке. В свое время о. Александр Шмеман страдал в своих «Дневниках» о состоянии церкви. Но теперь он страдал бы гораздо больше. Я иногда думаю: слава Богу, что он умер сравнительно молодым! Хотя я безутешен до сих пор. Я не могу утешиться, потому что наша дружба была такой естественной, такой непосредственной, хотя мы не очень часто виделись – из-за расстояния.
Никита Алексеевич, Вы говорите, что не очень понимаете ситуацию в России. Но ведь именно с Вашим именем прежде всего связано представление о «Вестнике» как об издании, интересующемся тем, что происходит в России. Как Вам кажется, за те двадцать лет, что прошли после отмены антицерковных законов, многое ли мы смогли воспринять из наследия русской эмиграции, которое стало доступно и открыто? Что здесь удалось, а что нет?
Что значит – «мы»? Одна из опасностей всякого размышления – это обобщение. До некоторой степени можно сказать, что пророческое эмиграционное достояние в каком-то смысле перешло в Россию. Но поскольку оно уникально, при таком переходе, конечно, нужно, во-первых, его творчески осмыслить, а во-вторых, творчески воплотить. Это не дается легко. И нам, детям, внукам русской эмиграции, это не дается легко и естественно. Иногда у нас создается впечатление, что некоторые, в основном официальные, представители церкви от русского эмиграционного достояния отказываются и хотят оставаться по отношению к нам чужими. Я не понимаю причины этого. Я не понимаю, например, почему нужно было отказаться от канонизации Ивана Аркадьевича Лаговского. Церковно-политические соображения, влияющие на это, выглядят по своему значению несопоставимыми с подвигом и жертвой, принесенными этим человеком и его сподвижниками, четой, которая, я надеюсь, также будет канонизирована Вселенским патриархатом1.
При всех существующих проблемах в церковном народе есть большой интерес к наследию русской эмиграции, к тому, что оставлено о. Александром Шмеманом, о. Иоанном Мейендорфом. Но тем не менее и здесь, может быть, что-то в нашу жизнь уже вошло достаточно естественно и легко, а что-то еще совсем не чувствуется. Есть ли что-то, чего мы, может быть, не понимаем категорически?
Я не думаю, что есть категорическое непонимание. Кроме того, хотелось бы уйти от разговора «в общем и целом». Историю всегда делает меньшинство. Но это меньшинство нуждается в своем печатном органе, чтобы объективировать свои мысли. Я думаю, что в этом контексте «Вестник», если он будет жить и дальше, будет выразителем некоторых меньшинств, голос которых нужен и церкви, и шире – обществу.
Кого бы Вы в первую очередь сейчас печатали, к чьему наследию важнее обращаться – к произведениям Н.А. Бердяева, отца Сергия Булгакова, отца Александра Шмемана?
Я прежде всего за разнообразие.
И все же – есть ли какая-то иерархия?
Я не думаю, что есть реальная иерархия. Есть разные творческие реализации, затем движение вперед.
Так, наследие о. Сергия Булгакова необходимо, чтобы догматика православия не сводилась к прописным истинам. Помните, что говорил митрополит Евлогий: если бы в семинарии не было русской литературы, он потерял бы веру. Его спасла русская литература, а не богословие, которое преподавалось в семинарии. Конечно, богословие спасает, но оно не должно преподаваться как нечто навеки застывшее. Русская литература от Пушкина до Солженицына сразу завоевывает вашу душу, в частности, поэзия. А семинарии были антипоэтичны. Но они уже менялись к началу XX века, многое менялось в хорошую сторону. Это-то и ужасно, что переменилось в хорошую сторону, а потом оборвалось, уничтожилось. И все же теперешние семинарии и академии невозможно сравнить с теми, что были в XIX веке. Сейчас становится все очевиднее, что в церкви нужно допускать свободу, открытость и вселенскость.
Да, и у нас здесь разговор об этом идет – о том, что должны существовать разные мнения, некий спектр. Как Вам кажется, кому стоило бы сегодня предоставить слово, есть ли какие-то живые яркие имена сейчас?
Я не живу в России и уже год не был здесь, так что немного отстал от здешней реальности. Но если говорить о недавнем прошлом, то первое имя, которое хочется назвать, – это Сергей Аверинцев. Хотя он был свободен в отношении к Церкви, но он был и законопослушным и т.д. Один человек может очень многое изменить. Явление этих пророческих одиночек (а пророки всегда одиноки) во многом зависит не от нас и не от печатных органов, и мы не можем способствовать их появлению.
Сергея Сергеевича уже восемь лет нет с нами. Но как Вы думаете, к чему бы он сейчас обращался мыслью в первую очередь?
Он ведь не призывал, он улыбался. И в его улыбке было больше призыва, чем в некоторых дидактических лозунгах. Я как раз об этом говорил, когда мы поминали его у вас, в Свято-Филаретовском институте. Он призывал намеком – и призывал к жизни, к правде, к подлинности. Что Аверинцев воплотил в себе (во всяком случае, с какого-то времени) – это служение правде. А служение правде в итоге предполагает живую веру. Она может быть не декларирована. Аверинцев замечателен своей недекларативностью. Сейчас же мы видим различные движения и даже правительства, которые многое декларируют, но без веры, без каких-то убеждений, и толку от этого не получается. И мне кажется, сегодня печатный орган должен отражать не то что неудовлетворение, но грусть о некоторой формализации христианства и возможном союзе с какой-то непонятной идеологией, не чисто христианской, скорее национальной, государственной – эти тенденции сейчас видны. Продержатся ли они, мы не знаем. Тут не все зависит от нас. Сегодня на конференции, посвященной издательству ИМКА-Пресс2, прозвучал доклад, напоминающий о Георгии Федотове. Этот мыслитель продолжает быть нам очень нужен, но он сейчас не услышан. Сейчас, скорее, слушают Карташова, но, может быть, немного упрощая. Даже в этом докладе, противопоставляющем их друг другу, было упрощение. У Федотова, на мой взгляд, был пафос, очень тонкий и близкий христианству. Христианство – это с одной стороны вера, а с другой – попытка жить и пережить что-то, оно может иметь разные формы. У Карташова же это было слишком обращено в прошлое.
У Федотова речь шла об истощении силы святости, которая сначала ушла с нестяжателями, которые были разгромлены, а потом с наследниками иосифлян, которые большей частью ушли в старообрядческий раскол, и этим окончательно обескровили церковь. Он говорил об этом в те годы, когда на русской земле вот-вот должен был воссиять сонм новомучеников. И может быть, это противоречие говорит о том, что когда нам кажется, что все обескровлено, ушло и иссякло, вдруг может появиться какая-то сила и жизнь. Как Вам кажется, откуда она может сейчас появиться?
Это трудный вопрос, потому что силы жизни появляются или проявляются с большей силой, когда наступает катастрофа. Во Франции, скажем, вокруг Первой мировой войны воссияла католическая пророческая литература – Пеги, Бернанос, Мориак, Клодель. С этой точки зрения кровь и несчастья нужны, но, с другой стороны, в 1917 году было достаточно катастроф и без русской революции. Это трудный метафизический вопрос, потому что нельзя желать катастрофы, и тем более России. Она их уже не выдержит. И ведь после углубления может наступить и опустошение.
Наверное, именно это и происходит сейчас в России – полное истощение сил народа после почти вековой катастрофы...
Беседовала Александра Колымагина
-------------------------
1. Об Иване Аркадьевиче Лаговском, а также о Николае Николаевиче Пенькине и его супруге Татьяне Евгеньевне Дезен подробно рассказывается в «Кифе» №11 (149) (сентябрь 2012 года).
2. Беседа состоялась во время конференции «YMCA-Press в истории русского книгоиздания за рубежом», проходившей 16–17 ноября 2012 года в Доме русского зарубежья.
Кифа №2 (156), февраль 2013 года